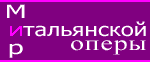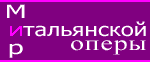Рихард Вагнер. Моя жизнь
1861—1864
40
Преисполненный надежд, я отсюда отправился в Берлин, где тотчас же заявился к Бюловым. Козима, которой в ближайшем времени предстояло рождение ребенка, страшно мне обрадовалась. Несмотря на мои протесты, она потащила меня в музыкальную школу, где находился Ганс. Я вошел в продолговатый зал, в отдаленном конце которого Бюлов давал урок музыки. Остановившись в дверях, я долго стоял молча, пока Ганс не вскочил со своего места в величайшей досаде на непрошенного посетителя, но, узнав меня, разразился радостным смехом. Уговорившись встретиться за обедом, мы с Козимой покинули его и в хорошем настроении поехали кататься в прекрасном, взятом в «Hotel de Russie» экипаже, серая атласная обивка которого все время радовала наш глаз. Бюлов был смущен тем, что мне пришлось увидеть его жену беременной. Когда-то я высказал ему неприятное чувство, какое внушила мне в подобном положении одна из наших общих знакомых. Я совершенно успокоил его на этот счет, говоря, что в Козиме ничто не может подействовать на меня неприятно, и это привело нас в веселое настроение. Вечером друзья мои, разделявшие мои надежды и сердечно радовавшиеся новому повороту в моей судьбе, проводили меня на Кенигсбергский вокзал.
В Кенигсберге мне пришлось провести полдня и целую ночь. Не чувствуя никакого желания вновь посетить знакомые места некогда рокового для меня города, я провел все время в комнате гостиницы, даже не поинтересовавшись местоположением ее, и на следующее утро продолжал свое путешествие в Россию. Чувствуя некоторое смущение при воспоминании о совершенном некогда противозаконном переходе этой границы, я внимательно разглядывал во время продолжительного переезда физиономии моих спутников. Среди них мое особенное внимание обратил на себя лифляндский дворянин немецкого происхождения, высказывавший самым резким тоном немецкого юнкера свое недовольство по поводу осуществленного русским императором освобождения крестьян. Мне стало ясно, что среди живущего в России немецкого дворянства освободительные стремления русских людей не найдут себе большой поддержки. Немалый испуг овладел мною, когда среди дороги поезд вдруг остановили и жандармы произвели осмотр вагонов. Обыск этот, как мне сказали, относился к нескольким лицам, которых подозревали в том, что они принимают участие в готовившемся тогда польском восстании. Неподалеку от столицы пустые места нашего вагона наполнились людьми, высокие русские меховые шапки которых казались мне тем более подозрительными, что владельцы их самым упорным образом разглядывали меня. Вдруг лицо одного из них прояснилось, и он с восторженным видом приветствовал меня, сказав, что выехал вместе с другими музыкантами императорского оркестра мне навстречу. Это были чистокровные немцы. На петербургском вокзале нас ждало много других депутатов оркестра с комитетом Филармонического общества во главе, к которым меня и подвели с торжеством. Для жительства мне рекомендовали немецкий «пансион», находившийся в одном из домов на Невском проспекте. Хозяйка его, г-жа Кунст, жена немецкого купца, приняла меня очень любезно. Она отвела мне лучшую комнату с видом на большую, оживленную улицу и окружила заботами и вниманием. Я обедал вместе с прочими пансионерами, и моим частым гостем был Александр Серов, с которым я познакомился еше в Люцерне. Он посетил меня, как только я приехал в Петербург. Здесь он занимал жалкое положение цензора немецких журналов. Этот небрежно одетый, болезненный и сильно бедствовавший человек заслужил мое уважение большой независимостью своего образа мыслей и своей правдивостью, которая в связи с выдающимся умом доставила ему, как я скоро узнал, положение одного из наиболее влиятельных и внушавших страх критиков. Я убедился в этом, когда ко мне обратились из высших сфер, чрезвычайно покровительствовавших Антону Рубинштейну, с просьбой оказать на Серова влияние в том смысле, чтобы он умерил резкость своих нападок на него. Когда я изложил ему эту просьбу, Серов представил мне все основания, почему он считает художественно-артистическую деятельность Рубинштейна в России столь губительной. Тогда я попросил его хоть ради меня прекратить на время эти преследования, так как при моем кратковременном пребывании в Петербурге мне было бы неприятно выступить соперником Рубинштейна. С запальчивостью больного человека он воскликнул: «Я его ненавижу и не могу идти на уступки». Между мною и Серовым, напротив, существовало полное согласие. Меня самого, все мои стремления он понимал с такою ясностью, что нам оставалось беседовать только в шутливом тоне, так как в серьезных вопросах мы были с ним одного мнения. Ничто не может сравниться с тою заботливостью, с какой он старался оказывать мне всяческую помощь. Он хлопотал о переводе на русский язык текстов тех отрывков, которые были выбраны для пения из моих опер, а также моих объяснительных программ. Он оказал мне также чрезвычайно полезное содействие при выборе подходящих певцов. За все это он чувствовал себя достаточно вознагражденным, присутствуя на репетициях и концертах. Я всегда видел перед собой его сияющее лицо, действовавшее на меня бодрящим и оживляющим образом. Самый оркестр, который я собрал вокруг себя в большом и прекрасном зале дворянского собрания, доставил мне величайшее удовлетворение. Он состоял из 120 избранных музыкантов: большей частью это были знающие свое дело художники, обычно играющие в оркестре итальянской оперы и балета и радостно вздохнувшие теперь, когда им представилась возможность заняться более благородной музыкой под таким управлением, как мое.
← к оглавлению | продолжение →