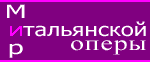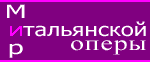Рихард Вагнер. Моя жизнь
1850—1861
77
В то время как я с капельмейстером Гассельманом беседовал о страсбургских музыкальных делах, в Париже произошло покушение Орсини на императора. Уже на следующее утро, когда я был на пути из Страсбурга в Париж, дошли до меня неясные слухи об этом событии. Когда 17 числа я прибыл в Париж, кельнер отеля сообщил мне все подробности происшествия. Я счел этот случай злостной выходкой судьбы, специально направленной против меня. Казалось, что вот появится мой старый знакомый, агент Министерства внутренних дел, и принудит меня как политического эмигранта немедленно покинуть Париж. Я решил, что, поселившись в большом, около этого времени открытом «Hotel du Louvre», я буду на лучшем счету у полиции. Вот почему я покинул маленький, темный отель на улице «Rue des filles St. Thomas», где снял комнату в погоне за дешевизной. Собственно говоря, я имел намерение поселиться в давно известной мне гостинице на улице «Le I'elletier». Как раз отсюда было произведено покушение. Тут искали и задержали преступников. Удивительно, я мог прибыть в Париж двумя днями раньше и остановиться в этом отеле!
Преклонившись перед спасшей меня неисповедимой судьбой, я стал разыскивать г-на Оливье и его молодую жену. В лице первого я приобрел в высшей степени симпатичного и деятельного друга. Узнав о причинах моего приезда в Париж, он охотно предложил мне свои услуги. В один прекрасный день мы отправились к дружески расположенному и, по-видимому, весьма любезному нотариусу. Я передал Оливье с некоторыми оговорками мои авторские права и написал соответствующую доверенность. Хотя от меня и потребовали исполнения тысячи формальностей, но в обшем ко мне отнеслись с большой предупредительностью, и благодаря содействию нового друга все обошлось вполне благополучно. Вскоре в «Palais de justice», в «Salle des pas-perdus», Оливье представил меня знаменитейшим адвокатам мира, которые прогуливались в тогах и шапочках. Я разговорился с ними и настолько сошелся, что был вынужден обступившей меня толпе адвокатов объяснить сюжет «Тангейзера». Все это мне очень понравилось. Не менее удовольствия доставили мне беседы с Оливье о его политических взглядах и обшем направлении его мыслей. Он верил только в республику, которая, по его словам, должна снова и навсегда утвердиться после неизбежного свержения владычества Наполеона. Он и его друзья отнюдь не заходили так далеко, чтобы призывать революцию, они готовились только к одному: не сделаться при неизбежном ее наступлении жертвой интриганов. Принципиально Оливье сочувствовал самым крайним выводам социализма. Он знал и уважал Прудона, но не как политика. Считал он прочным только то, что основано на началах политического переустройства. В области обычного законодательства, где, в видах общественной пользы, введены некоторые важнейшие меры, ограничивающие злоупотребление частным правом, он уже и сейчас предвидел быстрый прогресс. Он ждал осуществления в недалеком будущем смелых планов равномерного распределения общественных богатств. К моему большому нравственному удовлетворению, я заметил, что сделал большие успехи в смысле совершенствования личного характера, так как мог выслушивать и обсуждать эти мысли и многие другие, не проявляя при этом того раздражения, какое охватывало меня прежде при подобных спорах. В высшей степени благотворно было в этом случае влияние Бландины, кроткой, ясной и разумно-спокойной женщины, одаренной способностью быстро схватывать сущность вешей. Между нами установилась душевная близость. Мы понимали друг друга с первого слова, о чем бы ни шла речь: о предметах ли, о людях ли, с которыми приходили в соприкосновение. Настало воскресенье. В этот день назначен был консерваторский кониерт, на который друзья мои достали мне билет. До сих пор я бывал только на репетициях. Мне пришлось сидеть как раз в ложе вдовы композитора Герольда, очень симпатичной женщины, которая сейчас же отрекомендовалась мне в качестве горячей сторонницы моей музыки. Сама она, впрочем, почти не была с этой музыкой знакома. Но ей передался энтузиазм ее дочери и зятя, которые, как я уже упоминал раньше, слышали «Тангейзера» в Вене и Берлине во время свадебного путешествия. Все это было крайне приятно. Здесь мне удалось в первый раз слышать исполнение «Времен года» Гайдна, доставившее необыкновенное удовольствие публике. Она считала, очевидно, особенно оригинальными и восхитительными мелизматические каденцы, столь несвойственные современной музыке и столь часто заключающие музыкальные фразы у Гайдна. Коней дня я очень приятно провел в кругу семьи Герольда. Туда пришел поздно вечером один человек, появление которого было событием первостепенной важности. Это был тот самый г-н Скюдо, о котором я потом узнал, что в качестве весьма видного музыкального сотрудника «Revue des deux mondes» он оказывал давление на другие журналы в самом неблагоприятном для меня смысле. Любезная хозяйка хотела воспользоваться случаем и, познакомив его со мной, расположить его в мою пользу. Я заявил, что на «салонном вечере» беседы о серьезных вешах неуместны и не достигают цели. Потом я узнал из достоверных источников, что основания, исходя из которых этот господин, не ознакомившись достаточно с предметом, позволяет себе писать против художника, не имеют ничего обшего не только с какими бы то ни было убеждениями, но и с вопросом, нравится или не нравится критику данный автор. Радушная семья Герольда поплатилась за проявленное ею расположение ко мне. Скюдо в своем отчете о моих концертах осыпал ее градом насмешек, назвав, между прочим, семьей «ярых демократических принципов». Здесь я разыскал моего лондонского друга Берлиоза и нашел его в довольно хорошем настроении. Я сообщил ему, что приехал в Париж на самое короткое время с целью немного рассеяться. Он был занят тогда композицией «Троянцев». Чтобы получить представление об этой опере, необходимо было ознакомиться со стихотворным ее текстом, им самим написанным. Он пожертвовал целым вечером, чтобы прочесть мне свое либретто. И самая концепция произведения, и его удивительно сухая и притом театрально аффектированная трактовка произвели на меня отрицательное впечатление. На основании текста я мог судить и о характере музыки, которая должна была его иллюстрировать. Можно себе представить мое отчаяние, когда я узнал, что Берлиоз считает эту вещь своим капитальнейшим произведением и завершение ее — главной целью своей жизни.
← к оглавлению | продолжение →