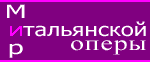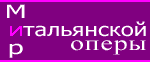БЕСЕДЫ ОБ ОПЕРЕ
Елена Чёрная
Оперные формы. Речитатив
Новая трактовка ариозных монологов не могла не повлиять на место и функцию речитативов в опере. Примерно с середины XIX века мы ни в русской, ни в зарубежной опере не найдем того заметного различия между речитативом и арией, какое было характерно для классиков на протяжении всего XVIII века. «Сухой» речитатив (то есть разговорный) в чистом его виде постепенно исчезает из оперного обихода. Если в «Севильском цирюльнике» Россини (1816) мы еще застаем произносимые скороговоркой сольные реплики и диалоги, которые согласно классической традиции сопровождает клавесин (в современной практике фортепиано), то композиторы более позднего времени и в комедийном жанре отказались от подобного размежевания музыкальной речи: «сухие» речитативы, ставшие более размеренными и певучими, сопровождал облегченный оркестровый состав.
Начало подобной реформе в серьезном жанре положил еще Кристоф Глюк; в 1762 году, создавая своего «Орфея», он отказался от клавесина — все «сухие» речитативы пелись под аккомпанемент струнных инструментов. В XIX веке передовые композиторы, добившиеся единства и связности в построении оперы, окончательно утвердили эту тенденцию. Таким образом, два вида речитатива снова слились в один. Однако этот новый речитатив ничего не утратил от многообразных возможностей прежних двух видов. В любом классическом произведении, западном или русском, все еще можно отличить речитативы возвышенного плана, которые по своей певучести приближаются к ариозному стилю, и речитативы бытовые, обыденные. Оба вида сохраняют и прежние свои функции: первый чаще всего используется как драматическое вступление к арии; второй—в диалогах, не имеющих первостепенного значения, но необходимых для понимания обстановки и взаимоотношений действующих лиц.
Монолог Лизы у Канавки («Пиковая дама» Чайковского) — классический пример трагического речитатива, по. значительности и масштабности не уступающего арии: исполненная тревоги и мрачных предчувствий Лиза пытается убедить себя в том, что Герман придет, что он любит ее. Но патетические интонации ее партии, противостоящие мрачной теме оркестра, скорее говорят о душевном разладе, чем о подлинном мужестве; они заставляют слушателя предполагать, что уверенность Лизы мнимая и ею владеют гораздо более сложные и мучительные чувства. Подтверждение этому мы находим в арии, выражающей предельную усталость, отчаяние и горькое чувство обреченности («Ах, истомилась я горем»).
В той же «Пиковой даме» Чайковский охотно использует речитатив в другом, бытовом плане: характеризуя в первом действии группу офицеров, прогуливающихся после ночи, проведенной в игорном доме, он прибегает к свободной разговорной манере речи, вошедшей в обиход со времен комической оперы. Прелесть майского утра не привлекает внимания «золотой молодежи», беседа по-прежнему вертится вокруг привычной темы — карточных проигрышей, азарта игры, и Чайковский коротко, но выразительно передает легковесный ее тон в диалоге Сурина и Чекалинского («Чем кончилась вчера игра?»). Развязность и будничность интонации подчеркивают душевную пустоту и пресыщенность офицерской среды. Да и оркестр здесь скуп до предела, сопровождение сводится к нескольким аккордам, поддерживающим вокальные партии. Поэтому, когда композитор противопоставляет этой светской болтовне пламенную речь Германа, когда в оркестре и вокальной партии возникает чудесная мелодия его ариозо («Я имени ее не знаю»), один этот контраст дает представление о превосходстве Германа над окружающей средой, о силе и глубине его переживаний.
Да и вообще в опере XIX, а тем более XX века речитатив используется с такой свободой, что целые сцены могут быть построены на его основе. В подобных сценах актер свободно переходит от почти разговорных интонаций, в которых высота голоса и мелодический рисунок едва обозначены, к ариозо (активную роль при этом играет оркестр, то предвосхищая неожиданные повороты мыслей или чувств героя, то обнажая борьбу, происходящую в его душе). На подобном гибком вокальном материале построена драматическая сцена Любаши и Грязного в «Царской невесте» — сцена, где подозрения, гнев, страстная любовь образуют неразделимый клубок чувств. Начиная с первых робких вопросов Любаши и следующей затем неожиданной вспышки гнева и отчаяния, раскрывается перед зрителем трагедия сильной и сложной женской души. Речитативная мелодия доходит до высшей кульминации в ее признании «Ведь я одна тебя люблю»: здесь полуразговорная речь сменяется захватывающими душу песенными интонациями ариозо; и снова речитатив — почти шепотом произносит Любаша роковые слова «Не погуби души моей, Григорий».
← к оглавлению | продолжение →