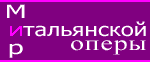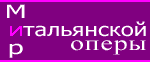ЖИЗНЬ МУЗЫКИ БОРОДИНА
Василий Яковлев
10
Смерть А. П. Бородина, поразив своей внезапностью и преждевременностью самые разнообразные круги, прикосновенные в те годы к явлениям культуры, вызвала весьма значительный поток критических оценок, иногда анализов его творческой деятельности. Появились более или менее обширные некрологи, очерки, биографии; некоторые из них немедленно после печального события, иные в связи с концертами, посвященными памяти композитора; затем последовали уже опыты исследования — обзоры его творчества в целом и по частям.
Особенно следует выделить публикации биографических материалов, принадлежавших В. В. Стасову; первая из них была напечатана в известном тогда журнале «Исторический вестник» (апрель, 1887) и издана вскоре в качестве самостоятельной брошюры; вторая, более обширная, приобретшая надолго заслуженную славу, — книга «А. П. Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи» (изд. Суворина, 1889).
Враждебная критика, представители которой заняли довольно прочные места в печати, в зависимости от тех или иных личных связей с наиболее обеспеченными издателями, почти исключительно консервативного характера, естественно, не хотела сдавать своих позиций и стремилась умалить деятельность и художественное значение композитора, хотя это было намного труднее, чем в 70-х годах.
Даже такому блестящему музыкально-научному и литературному дарованию, «умнице» (как его называли друзья) Г. А. Ларошу приходилось, отстаивая явно стареющие принципы, неизменно опровергаемые жизнью, замалчивать свои эстетические ошибки и поворачивать на путь признания серьезности и высоты художественных задач Бородина, самостоятельности творческой инициативы композитора и успеха ее осуществления в оставленном наследстве. Но «мостик», по которому можно было безнаказанно пройти, чтобы сохранить свое достоинство музыкального писателя, оставался все тот же — право музыковеда на упреки в недостатках специального образования у Бородина.
Во вступительной части своей довольно обширной некрологической статьи (октябрь, 1887) Ларош весьма разнообразно развивает чисто декларативные мысли о коренных отрицательных свойствах творческой индивидуальности неожиданно прославившегося автора.
Здесь, в нашей работе, нет места детально останавливаться на многих подробностях этой статьи, как бы подытоживающей суждения одного из крупнейших наших критиков в прошлом о таком выдающемся в мировом искусстве явлении, как творчество Бородина. Подробности полны всевозможных «ухищрений» и далеко не «милого и безобидного шаржа», как определяет Ларош гармонические приемы автора «Спящей княжны» и «Моря», — все для того, чтобы оправдать свои ошибочные восприятия и преждевременные выводы. «Бородина, — излагает Ларош, — не только тянуло к симфонии и струнному квартету (призвание его к опере дело спорное), но и в вещах небольшого размера, которых у него числом больше, видно стремление к богатому и, если так можно выразиться, к громоздкому. Не в этом ли противоречии между свойством таланта и количеством образования следует искать главной причины его малой плодовитости. Я иду далее, — продолжает критик, — и вывожу из той же причины некоторые из качественных определений его музыки. Покойный обладал несомненным и большим композиторским дарованием, и, попади он смолоду в широкое музыкальное русло, тяни он смолоду цеховую лямку, он в излюбленном им симфоническом роде оставил бы нам произведения монументальные. Поклонники его говорят, что он сделал это и так. Со своей стороны, я перед бородинскою музыкой, полною чар гармонической изобретательности, остроумною, эксцентрическою, напичканною крайностями и куриозами, всегда испытываю чувство, как будто имею дело с шуткой артиста...».
Остановимся еще на двух-трех местах из ларошевского итога наблюдений. Мы должны при этом принять во внимание следующее. Относиться к критической деятельности Лароша в целом поверхностно и высокомерно не подобает пи- кому из историков нашей музыкальной культуры, имея в виду его выдающиеся заслуги как музыковеда — автора замечательного труда о Глинке, статей о системе музыкального образования и ряда других, но обходить и замалчивать все его многочисленные выпады против положительных явлении в русской музыке совершенно невозможно. Его обзоры текущей, современной ему музыкальной жизни не раз вели к серьезной дезориентации неопытного музыкального слушателя, из числа тех, кто привык доверять авторитетному тону признанного эрудита и законченного профессионала. Надо иметь в виду, что в Лароше была ярко выражена способность к убедительному изложению своих мыслей, и если его самого как бы давил избыток исторической, специально-музыкальной и литературной осведомленности, то для малоподготовленного, но интересующегося читателя блеск его стиля и разнообразие его экскурсов создавали значительное обаяние.
В том же некрологе Бородина мы встречаемся с одним из его излюбленных приемов убеждения. Он не останавливается, например, перед тем, чтобы заведомо преувеличить историческое значение «Парафраз» и построить на этом материале обобщающие выводы. «Те нумера, которые принадлежат Бородину, — читаем у Лароша,— все превосходны и еще раз обнаруживают его богатый гармонический слух и способность аккордами выкидывать небывалые штуки... Но тщетно ищу разницы тона между этими милыми шалостями в кружке товарищей, собравшихся покощунствовать над собственным искусством, и творениями якобы серьезными, к которым нам велят приближаться с благоговением. То же остроумие, то же изощрение, то же задорное и занозистое письмо, тот же несомненный талант, то же отсутствие простоты и теплоты (!! — В. Я.). Такого композитора не хватает на произведения крупных размеров: его способ писать осуждает его на мозаическую работу, на более или менее длинное нанизывание своих жемчужин».
Автор всех этих крайностей критического ума во всей силе «холодных наблюдений» переходит немедленно к самой щекотливой для него теме —программной музыке. «Вот почему, — завершает он этот отдел умозаключений,— классическое творение Бородина, единственное, в котором он явился художником в высшем смысле слова, имеет размеры крошечные; это его симфоническая картинка «В Средней Азии», не только свободная ото всякой заботы о tour de force, но запечатленная в своей унылой и голой простоте какою-то действительно степною безудержностью. Здесь Бородин вполне заслужил столь часто злоупотребляемое в наше время название поэта в звуках».
Итак, критик, усердно опровергавший законность программной музыки, становится в положение рядового любителя, признающего, очевидно, выполненной задачу «картинности» и «настроения» в произведении. По существу, пострадал принцип, но Ларош, разумеется, не считает себя потерпевшим поражение и ввиду явного, всеобщего и несомненного успеха этой небольшой, но действительно поэтической пьесы, свежо и тонко инструментованной, отводит мысль читателя в сторону случайности удачи композитора, счастливого совпадения литературной темы (конечно, вне ее временного политического значения) и технического приема.
Познакомившись с Первым квартетом, Ларош дополняет свои взгляды следующими примечательными для нас соображениями. «К удивлению и удовольствию своему я здесь нашел наряду с некоторыми длиннотами и общими местами почти совершенно европейскую технику, нечто широкое и пластическое, полное отсутствие изысканности и ку- риоза. Я не хочу сказать, чтоб я предпочитал этот квартет всему сделанному им впоследствии. Нет, ибо впоследствии Бородин составил себе специальность, и в этой специальности он, хотя приблизительно бесполезен для публики, представляет, как уже сказано, бездну занимательного и забавного для людей ремесла. Этой занимательности нет в юношеском (курсив мой. — В. Я.) квартете; но в нем есть задатки, которые не вполне оправдались последующею карьерой артиста, задатки широты, простоты и искренности».
Незнание хронологии сочинений Бородина поставило Лароша в неловкое положение вовсе не осведомленного толкователя творческой эволюции композитора, в которой все оказывается навыворот: квартет написан вовсе не «юношей», а в зрелый период творчества, столь осужденный критиком. Ошибка эта только подтверждает однобокость и ложную направленность аналитических талантов самого строгого ценителя и эстетического судьи-деятеля, во многом разошедшегося с истинными потребностями эпохи с ее прогрессивной тенденцией в деле сближения музыкального искусства с текущей действительностью и жизнью родины.
Как уже говорилось, исторические заслуги Г. А. Лароша в других областях музыкознания известны и неоспоримы, но они отнюдь не в раскрытии новых авторов — двигателей национального прогресса, борцов за народную культуру. В качестве исключения из этогд общего положения следует указать на работы Лароша о Чайковском, но и в них, наряду с удачными и иногда даже проницательными анализами, мы часто встречаемся с недопониманием и недооценкой прогрессивных стремлений композитора.
Ряд статей Ц. А. Кюи, помещенных в тот же год смерти Бородина и в последующие, ближайшие годы, как общие обзоры творчества, так и по поводу исполнения отдельных произведений, корректируют тот глубоко несправедливый и в самом существе проблемы ложный взгляд, проводимый Ларошем и другими, менее одаренными, но не менее пристрастными, обычно лукавыми и безусловно неискренними противниками Новой русской школы, выбитыми из колеи все более утверждающимся признанием и успехом сочинений Бородина и его товарищей.
По тону, по серьезности мысли и изложения упомянутые статьи Кюи принадлежат к разряду его печатных выступлений тех лет, когда он считал необходимым внести в музыкальную общественность, закрепить в сознании музыкальных читателей истинное понимание передовых идей и положительных начал, какие с непрерывным блеском дарований были явлены лучшими русскими композиторами его времени. Но в статьях этих, несмотря на необычайную для данного автора теплоту и сочувствие, не было той зажигающей силы, меткости определений, ярких вспышек острого ума, какими отличались его фельетоны ранних лет, оказавшие длительное и прочное влияние на ряд поколений, преимущественно на музыкальную молодежь. Конечно, задача здесь была другая, и в качестве деловых формулировок, а также наблюдений над личностью композитора многое из продуманного и освещенного Ц. А. Кюи было очень ценно.
Не приходится говорить, с какой непосредственной силой чувства были даны некрологи, сообщения, заметки, «поминки о Бородине» В. В. Стасова, опубликованные им в разных изданиях. Перечисляя все, что композитором совершено для русской культуры, излагая все сведения об оставленном им творческом наследии, высказывая предположения и надежды на будущую судьбу его произведений, Стасов в своих статьях неизменно отражает незыблемую веру в могущество и торжество национального, самобытного искусства, незыблемые убеждения в предстоящей полной и совершенной оценке творчества великого музыканта.
С поразительной быстротой Стасов опубликовал первые собрания биографических материалов, о чем выше уже говорилось, и тем самым расширил и уточнил осведомленность музыкантов и любителей о жизни и деятельности А. П., о котором в обществе имелись самые разнообразные и по большей части неверные и непроверенные сообщения и слухи.
Можно с уверенностью сказать, что книга Стасова о Бородине 1889 года возбудила интерес к жизни и творческой работе русских музыкантов вообще, притом в тех кругах п слоях населения, какие недостаточно ценили успехи русской культуры в области музыки, относились к искусству без должного внимания.
Несколько некрологов неизвестных авторов были также проникнуты признательностью и уважением к творчеству Бородина, но такие статьи, как правило, печатались в малораспространенных органах печати, и, наоборот, в изданиях, имевших хорошую литературную базу, появлялись равнодушные заметки и скрыто или открыто недоброжелательные статьи.
Несколько откликов на экстренный концерт Русского музыкального общества (23 февраля 1887 года) под управлением А. Г. Рубинштейна еще не имели характера оценок, ведущих к умалению Бородина, так как слишком сильно было впечатление от смерти композитора и той общественной реакции, какая обнаружилась на его похоронах.
Но во всяком случае было заметно желание успех творчества Бородина на концерте объяснить скорее прекрасным исполнением, чем значительностью самих произведений.
С наиболее двусмысленным очерком выступил в скором времени известный тогда критик М. М. Иванов; о нем Стасов не раз возмущенно писал как об авторе с «самыми кривыми мнениями» по отношению к Бородину. Критик сожалеет, что Бородин написал мало, «меньше, чем можно было ожидать от его таланта», подымает вопрос о том, был ли Бородин «новатором», и приходит к выводу, что новатором он не был и в этом ему будто бы помогло его увлечение в молодости Мендельсоном. Это биографическое сведение охотно приводилось и другими авторами в защиту положения об отсутствии у Бородина того радикализма, какой был проявлен Даргомыжским и Мусоргским. Похвалы у Иванова чередуются с постоянными оговорками: с отдельными, правда, мало самостоятельными соображениями автора и можно было бы согласиться (статья вышла вскоре после смерти композитора, и это обязывало критика), но в заключение обнаруживается несомненное желание и расчет ослабить впечатление слушателей, внести хоть каплю сомнения в то непосредственное чувство русского музыкального любителя, чувство эмоциональной близости к творческой личности автора любимых уже романсов, хоров и Второй симфонии.
По М. М. Иванову, если бы Бородин «не раздроблял своих сил» и «оставил бы по себе большее число работ», то «явился бы с несравненно более определенною художественною физиономиею (!! — В. Я.) и, в сущности, дал бы России более права гордиться им. чем теперь, когда, признавая его дарование, мы все-таки Должны сказать, что судьба помешала полному осуществлению тех надежд, которые мы (кто это мы? — В. Я.) по праву возлагали на него».
Первый «русский симфонический» («беляевский») концерт ближайшего сезона, состоявшийся осенью того же 1887 года (24 октября) под управлением Н. А. Римского-Корсакова, концерт «памяти Бородина», повлек за собою достаточное количество высказываний, резко определивших различные группировки уже с более откровенными мыслями. В распространенном тогда иллюстрированном журнале «Живописное обозрение» появились две большие статьи одного из соратников Иванова, еще менее одаренного, но бойкого фельетониста В. Баскина. Статьи вышли с заголовком «Один из наших музыкальных новаторов». В них временно подавленное, но глухое раздражение заменилось явным, вспомнились все обиды и расхождения за прошлые годы, накопившиеся счеты с прямотой Стасова и с беспощадной едкостью Кюи, выдвигались для противопоставления, очень тогда принятого, имена А. Н. Серова, А. Рубинштейна, Чайковского как несправедливо умаляемые, и за одно с ними Соловьева, Иванова, Шелля и других забытых ныне историей композиторов. Важно было внушить публике, что «кучка музыкальных писателей.., существующая добрых лет 25 и в настоящее время имеющая археологическое разве значение, доживает свои последние дни на своих собственных развалинах...». Все это, разумеется, вопреки всякой очевидности для лиц, прикосновенных к искусству, и для дезориентировки читателей и слушателей, мало знакомых с истинным положением дела.
Любопытно, впрочем, вновь возникшее обвинение «кучкистов»; их ведь так усердно упрекали в невежестве, дилетантизме и т. п., а в настоящий момент вина заключалась в том, что они «хотели приучить массы видеть в искусстве науку». И еще одно наблюдение.
Несмотря на якобы постепенное ослабление боевого значения Новой русской школы и равнодушие к ней публики, Баскин скорбит о разделении музыкантов на партии и кружки, по существу предлагая «мировую». Он здесь не одинок, и Стасов в свое время, в связи с исключительным успехом «Князя Игоря» на сцене, кстати, напомнит о непрекращавшихся за разные годы (преимущественно, прибавим от себя, с середины 80-х годов) попытках всех этих «осекшихся» — по выражению Бородина — деятелей признать спор несостоявшимся. Что касается оценки творческой и даже научно- общественной деятельности самого Бородина, то обильные рассуждения автора отличаются обычной для большинства музыкальных фельетонистов того времени самоуверенностью, высокомерием и легкомыслием.
«Никаких новых путей он (Бородин. — В. Я) в своих немногочисленных произведениях, по крайней мере, известных и появившихся в свет, не пролагал и не открыл; тем менее может быть речь о создании школы; следовательно, в чем может сказаться его новаторство? Далее, и по таланту он выходит из уровня (не выходит?—В. Я.) средней талантливости, а чтобы сказать что-нибудь новое в музыке, из ряду вон выходящее, необходим и талант из ряда вон выходящий, и специально ею (музыкой? — В. Я.) заниматься, посвятить ей все свои силы...»
Все с тою же целью как-либо воздействовать на читателя, затенив также и научную работу популярного деятеля, в статье сообщается, что А. П. написал «20 мемуаров по химии, не имеющих, однако, значения ни учебников, ни компилятивных (?) работ... Его ученая карьера... не ознаменовалась какими-либо выдающимися исследованиями или открытиями...».
Все последующие оценки, положительные или сомнительные, создают такое впечатление: когда критик одобряет сочинение, то оно оказывается подверженным тем или иным влияниям, что, конечно, в итоге не говорит о самостоятельности дарования; когда же обнаруживается стремление сказать что-либо «новое», то это, в свою очередь, также является серьезным недостатком. И потому еще и еще раз со всей категоричностью заявляется, что «ни количественно, ни качественно» Бородин не внес в музыкальную сокровищницу никаких вкладов и не сказал своего «слова» хотя бы в такой форме, как его сказал Мусоргский: «...Короче, мы не имеем дело с гением».
Есть ли необходимость в нашей работе цитировать, хотя бы в нескольких небольших выдержках, критические упражнения авторов, оказавшихся столь слабыми и несостоятельными в обсуждении музыкальных сочинений или в подведении общих итогов творческого наследия великого композитора? Приходится отвечать утвердительно.
Н. Д. Кашкин в одном из своих многочисленных мемуаров рассказывает, как он и его друзья в молодости зачитывались критическими статьями А. Н. Серова, и это не могло не оставить значительных следов у впечатлительного и ищущего для себя решений вопросов искусства молодого поколения. Но любительская масса не готовилась к восприятию музыки ни по учебникам, ни по специальным изданиям, она ими вовсе не интересовалась, а отдавалась личному непосредственному впечатлению, прислушивалась к мнению среды или же к суждениям, авторитетно высказываемым в повседневной печати.
Многие годы в русской журналистике наряду с несколькими компетентными и ответственными работниками играли весьма значительную роль в качестве руководителей музыкально-общественного мнения люди случайные и не только малоодаренные в художественном отношении, с узким кругозором, но и низкого общественно-морального уровня, беспринципные и безыдейные. Поэтому вопросы народности, реализма в искусстве и живой связи с правдой жизни, с действительностью для них были пустым звуком, а если они и реагировали на эти волнующие темы, то для того лишь, чтобы, пользуясь вековым невежеством обывателей в деле искусства, запутать ради своих ничтожных или своекорыстных целей вопросы искусства, прогрессивное движение которого могло быть неясно даже и крупным людям, не стоявшим близко к музыкальным интересам и не связывавшим музыку с проблемами общей культуры.
А в текущей ежедневной прессе во многих органах музыке отводились большие отделы, и я лично хорошо по.мню, как в годы своего раннего музыкального развития — середины 90-х и начала 900-х годов — чтение статей об искусстве со взглядами случайными и безответственными приводило весьма серьезных и почтенных лиц к самым ложным и отсталым понятиям о русской музыкальной культуре.
Вот почему при выяснении и восстановлении исторической обстановки, в которой протекала у нас музыкальная жизнь второй половины XIX века, нельзя обойтись без извлечений, хотя бы очень частичных, того типа газетной и журнальной литературы, какая безнаказанно распространялась в массе средних, по тем временам, слушателей.
Концерты осенью 1887 года, в которых исполнялись сочинения Бородина, привлекли, особенно первый из них (24 октября), количество публики больше обычного, и самый состав ее говорил о повышенном интересе к творчеству почившего композитора — гениального выразителя передовых идей национального искусства. По сообщению хроники, были «все музыканты, критики, литераторы и т. д.». Н. А. Римский-Корсаков в качестве дирижера и близкого к Бородину музыканта, являвшегося вместе с А. К. Глазуновым как бы его наследником, был встречен с искренним воодушевлением. Наибольший успех имела Вторая симфония и впервые исполненные увертюра к «Князю Игорю» и «Половецкий марш», а из вокальных вещей — романс «Для берегов отчизны даль- ной»; увертюра, марш и романс были повторены. Исполненные, также впервые, две части неоконченной Третьей симфонии вызвали разноречивые суждения, причем не вполне сочувственные оценки относились, главным образом, к оркестровке Глазунова.
Не будем останавливаться на подробностях отчетов критики, довольно мелких по содержанию. Па этот раз уже не обошлось без «кислых» оговорок «нововременского» обозревателя. В следующих двух концертах того же года были исполнены— «Пляска половецких девушек» (21 ноября) и «Ноктюрн» из Второго квартета в переложении для скрипки с оркестром Римского-Корсакова. «Пляска половецких девушек», вполне оцененная по достоинству, еще и еще раз выявила желание слушателей видеть «Игоря» на сцене; можно заметить, что к этому времени решительно все отрывки из оперы, в том числе, как было сказано, увертюра с ее красивыми, подкупающими и значительными темами вместе с «Половецким маршем», по общему признанию блестяще инструментованным Римским-Корсаковым, создавали новый подъем интереса к будущему знакомству с оперой в целом. О работе над окончанием «Князя Игоря», о ближайшем издании оперы и о возможности ее постановки было уже известно по сведениям, сообщенным в печати.
В связи с включением в программу «Ноктюрна» из Второго квартета Бородина в переложении для скрипки с оркестром, следует сказать о характере программ и деятельности новой концертной организации.
При основании в 80-х годах М. П. Беляевым «Русских симфонических концертов» первоначально имелось в виду исполнение лишь одних оркестровых произведений новых русских авторов. Первым исключением было именно исполнение «Ноктюрна», но в данном случае должна была иметь место та мотивировка, что сочинение предлагалось слушателям в виде переложения с оркестром. Проводимое ограничение, то есть отсутствие солистов, вызывало как в Петербурге, так и в Москве разноречивые мнения у музыкальных деятелей. Строгое соблюдение принципа имело результатом значительный материальный ущерб, так как вкусы большей части публики тяготели к сольным и виртуозным выступлениям. Отсутствие солистов влияло на посещаемость, а относительно малое количество посетителей в течение ряда лет (позднее было иначе) давало оружие в руки недоброжелателей, указывавших на равнодушие «широких масс» (как тогда понималось) к деятельности музыкантов-«беляевцев», то есть наследников «кучкизма».
«Русские симфонические концерты» поставили своей задачей проведение в жизнь творчества исключительно русских авторов и, наряду с Глинкой, Даргомыжским, Мусоргским, Бородиным и Римским-Корсаковым, знакомство слушателей со всеми новостями русской оркестровой литературы, со времени появления А. К. Глазунова значительно развивавшейся.
Такая задача естественно вытекала из того, что при ограниченности концертов Русского музыкального общества для пропаганды в них новых русских авторов оставалось слишком мало места; программы этих концертов включали в себя по-прежнему произведения европейской классики, и в большей мере, чем это теперь требовалось в связи с ростом творческой продукции у наших композиторов.
Возвращаясь к «Ноктюрну», отметим отзыв Ц. А. Кюи. «Он,—-читаем в отзыве, — не принадлежит ни к лучшим, ни к оригинальным произведениям Бородина, но его первая тема красива, тепла, певуча, весь он написан так музыкально, так выдержан и переложен Корсаковым так ловко, что производит цельное и приятное впечатление». Приводим здесь это, в сущности, мало интересное замечание с тем, чтобы выделить и в данном случае постоянство Кюи по отношению к квартетам Бородина; в основном своем обзоре всего его творчества Кюи давал такое определение: «Второй квартет несколько слабее (Первого. — В. Я.) по музыкальным мыслям: он написан более ровно, но в нем нет таких выдающихся и оригинальных красот, как в первом»; общая оценка следующая: «в двух его квартетах преобладает не сила и энергия, а милое и изящное». Эти стороны у Бородина, то есть «лирическое» и камерно-интимное, как мы знаем, на первых порах мало приветствовались его друзьями старшего поколения.
Однако популярность Второго квартета далеко превзошла успех Первого, и это нужно отнести, разумеется, за счет «Ноктюрна», совершенно подобно тому, как то было с Первым квартетом Чайковского и его певучей частью. И так же, как Andante cantabile Чайковского, «Ноктюрн» Бородина исполнялся самостоятельно, в переложении, во многих и многих городах, среди любителей, в кружках, в домашнем исполнении, в музыкальных школах и провинциальных учреждениях, привлекая массы слушателей теплотой, естественностью чувства, жизненностью и прелестью звучания и вызывая интерес к творчеству Бородина в целом.
Уместно будет привести здесь небольшую статистическую справку. По сделанному мною подсчету, за 25 лет в Петербургском отделении Русского музыкального общества Первый квартет Бородина с 1880 по 1905 год был исполнен всего четыре раза, включая одно исполнение «Чешским квартетом», Второй же квартет почти за этот же срок (исполнен в первый раз в 1882 году) — всего тринадцать раз. Наряду с этим квартеты Чайковского за тридцать с небольшим лет (1872—1905): Первый — тринадцать раз, Второй — одиннадцать раз, Третий — девять раз. Сюда не входят исполнения других камерных организаций. Последующие годы, разумеется, в корне изменили рост этих цифр в сторону увеличения, можно сказать, в геометрической прогрессии.
Таким образом, нетрудно заметить, что популярность квартетной музыки Бородина в ранние годы развития у нас камерного жанра не уступала (имея в виду именно Второй его квартет) популярности таковой же музыки Чайковского и отчасти превзошла даже ее.
Вспомним одно из признаний самого Бородина: «квартеты и камерную музыку смерть люблю по-прежнему». Любимая им форма и в его собственном творчестве вызвала ответное сочувствие у ряда поколений.
В дальнейшем «Русские симфонические концерты» продолжали ревностную пропаганду творений Бородина; в ближайшие годы были повторены все симфонии, исполнен финал из «Млады», вокальные и оркестровые отрывки из «Игоря» также находили свое место в программах. «Маленькая сюита», будучи произведением, предназначенным для одного исполнителя— пианиста, и, следовательно, не имевшая формального права на появление в этих концертах, была инструментована А. К. Глазуновым. Это тем более для друзей Бородина должно было казаться уместным, что по их оценке, как уже говорилось, замысел и стиль сюиты имели характер «оркестровый». Судьба этого сочинения в известной степени аналогична «Временам года» Чайковского и «Картинкам с выставки Гартмана» Мусоргского. Взятые в ранние годы своей жизни под сомнение в законности их фортепианного стиля, они вошли в музыкальный быт не благодаря их концертному исполнению (что произошло и утвердилось много позднее), а домашнему — с любовью, признанием и зачастую с тонкой художественной трактовкой.
В оркестровом оформлении «Маленькая сюита» Бородина имела в концертах (законно или незаконно) весьма значительный успех и была показана в других городах. Более спорным представлялось оркестровое обрамление романсов Бородина — «Спящая княжна» и «Море» в инструментовке Римского-Корсакова, «Для берегов отчизны дальной» в переложении для оркестра же Глазуновым. Но эти опыты относятся к более позднему периоду.
Во всем этом нельзя не видеть искреннего желания друзей Бородина поддержать в музыкальном сознании слушателей, ввиду относительной малочисленности сочинений, интерес к индивидуальности композитора.
Упоминавшаяся книга В. В. Стасова с биографическими материалами о Бородине вызвала критику со стороны противников Новой школы, критику мелкую и недобросовестную, пользующуюся тем, что Стасову нелегко было доказывать достоинства музыкальных сочинений, с которыми сама публика была очень мало знакома или даже вовсе их не слышала.
Сильный внутренним убеждением и безграничной верой в правоту своих воззрений, он не обладал внешней яркостью литературной формы, склонен был к частым повторениям одних и тех же эпитетов, искупая эти недостатки живостью изложения и своеобразной эмоциональной насыщенностью, чем и заражал непредубежденного читателя. За исключением Г. А. Лароша, нападки большинства критиков, по существу, были очень слабы, но неизменный энтузиазм Стасова и последовательность в защите определенной группировки композиторов (история оправдала эту защиту), настойчивое отстаивание уже не раз высказанных мыслей давали повод к грубым выходкам все более озлоблявшихся представителей консервативной печати в музыке.
Надо сказать, что, кроме Стасова и Кюи, в петербургской журналистике долго не было таких музыкально-критических талантов, которые последовательно могли бы развивать их дело, вести музыкально-любительскую массу к дальнейшему усвоению смысла и художественного значения нового русского искусства. Однако дельные и серьезные люди для дальнейшей пропаганды все же нашлись; хотя их было еще немного, но работа, ими проделанная (впоследствии забытая), в свое время оставила несомненные следы. К сожалению, эти верные люди лучшие свои изучения помещали или в журналах с относительно небольшим кругом читателей, или же в специальных, мало распространенных изданиях.
Одним из таких деятелей был Порфирий Алексеевич Трифонов. Первоначально любитель хорошей квалификации, бывший офицер-академик, он написал несколько полезных работ и среди них об А. П. Бородине. Основанная главным образом на только что вышедших перед тем, еще неполных материалах Стасова и А. П. Дианина, отчасти, видимо, на личных воспоминаниях и наблюдениях, работа эта является для тех лет относительным образцом вдумчивого, обстоятельного и крайне живого изложения о музыканте и музыке, о жизни и творчестве. Нисколько не преувеличивая, можно сказать, что, например, разбор симфоний композитора был дай в таком удачном литературном освещении, какого тогда нельзя было ожидать от очень многих специалистов, не приложивших своего труда для благодарного дела музыкального просвещения. Трифонов создает также живой образ композитора, рисует его не только с горячей любовью, но и с большим тактом и психологической чуткостью.
Другим, возникшим почти одновременно, опытом обзора, и исключительно только творчества Бородина, явились статьи Виктора Антоновича Чечотта, помещенные в журнале «Баян» и изданные отдельно в 1890 году. Автор — композитор и музыкальный критик, историк — с начала 80-х годов переселился из Петербурга в Киев, где и продолжал свою деятельность, критическую и педагогическую, в течение нескольких десятилетий. Не обладая особыми индивидуальными чертами в качестве музыкального писателя, В. А. Чечотт внес, хотя и частично, в свое исследование специальный анализ произведений композитора, сделал ряд выводов о строгой логичности творческих находок Бородина, об отсутствии случайных, неоправданных новшеств, об убедительности всего его творчества в целом. Чечотт в этих статьях подымает также вопрос о праве музыкального писателя вносить в обиход журналистики специальную терминологию, ввиду бывшего тогда «возмущения» некоторых публицистов по поводу пользования техническими терминами в музыкальной критике.
← к оглавлению | продолжение →