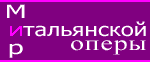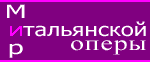Рихард Вагнер. Моя жизнь
1850—1861
40
На эту книгу мое внимание обратил Гервег. При этом он рассказал мне следующие интересные подробности относительно нее. Сочинение это появилось в печати более тридцати лет назад и только недавно было странным образом вновь открыто. О книге он узнал из статьи Фрауенштелта, в которой излагалась ее история. Я тотчас же почувствовал к ней глубокий интерес и принялся читать ее. Не раз я ощущал в себе потребность разобраться в важнейших вопросах философии. Уже в прежние годы, во время пребывания в Париже, меня толкнули на изучение философии разговоры с Лерсом, и я стал искать утоления жажды знаний в изучении работ Фейербаха, так как мне казалось, что они дадут мне то, чего я не мог найти в книгах Шеллинга и Гегеля, в лекциях лейпцигских профессоров, которые я слушал в дни моей юности. С первых страниц меня притягивала не столько своеобразная судьба книги, сколько ясность и мужская точность в изложении и анализе сложнейших метафизических проблем. Правда, меня заранее подкупила в пользу этого мыслителя статья одного английского критика, в которой тот чистосердечно признавался, что его смутное и недостаточно осмысленное преклонение перед немецкой философией обусловлено полной ее недоступностью, особенно у Гегеля. При изучении книги Шопенгауэра автор убедился, что причина заключалась не в его неспособности к философскому мышлению, а в преднамеренной запутанности изложения у германских философов вообще. Как всякий человек, много размышлявший о сущности жизни, я раньше всего искал конечных выводов шопенгауэровской системы. Меня совершенно удовлетворяла его эстетика, в которой я особенно поражался его глубокомысленным взглядам на музыку, но, как это поймет всякий, кому пришлось пережить то, что я тогда переживал, мне стало жутко, когда я выяснил себе, что нравственная философия Шопенгауэра сводится к умерщвлению воли жизни, что в отрицании ее он видел единственный путь к истинному и полному преодолению ограниченности нашего индивидуального ощущения и восприятия мира. Тема эта выступила с полной ясностью для меня впервые. Тем, кто искал в философии теоретического обоснования для политической и социальной агитации на пользу «свободного индивидуума», она решительно ничего не давала, ибо Шопенгауэр искал особенных путей, ведущих к уничтожению самого инстинкта личности. Вот с чем я вначале не мог примириться: считая, что радостное эллинское миросозерцание, мечту о котором я вложил в свое произведение «Искусство будущего», коренится во мне глубоко, я не решался сразу от него отделаться. Но Гервег одним верным замечанием рассеял мои сомнения на этот счет. Сознание призрачности мира явлений, так сказал он мне, составляет основную тему каждой трагедии и интуитивно присуще всякому великому поэту, великому человеку вообще. Я еше раз прочел поэму о Нибелунгах и, к своему изумлению, понял, что с этим мировоззрением, вызвавшим во мне такое смущение при чтении книги Шопенгауэра, я давно уже сжился в своем собственном творчестве. Только теперь я понял своего Вотана. Потрясенный до глубины души, я снова принялся за основательное изучение книги Шопенгауэра. Прежде всего я решил уяснить себе содержание ее первой части, глубокую разработку учения об идеальности мира явлений, казавшегося до сих пор реально обоснованным в пространстве и времени, и мой первый шаг в этом направлении заключался в уяснении необычайной трудности проблемы. Отныне я в течение многих лет не выпускал этой книги из рук, и уже летом следующего года я проштудировал ее в четвертый раз. Ее влияние на меня, все более и более усиливавшееся, было настолько велико, что в дальнейшем оно оказало самое решительное воздействие на все мое мировоззрение. Благодаря ей я стал сознательно относиться к тому, к чему прежде относился только сквозь призму чувства. Со мною случилось здесь то же самое, что случилось по отношению к музыке, когда благодаря импульсу, полученному от старого учителя Вейнлиха, я серьезно занялся контрапунктом. Все мои статьи, написанные впоследствии по тому или иному поводу, касавшиеся наиболее близких мне вопросов искусства, всегда носили печать влияния философии Шопенгауэра. Теперь я возымел желание послать глубоко чтимому мыслителю экземпляр «Кольца Нибелунгов». На заглавном листе я сделал надпись «в знак преклонения» и не приложил никакого письма, отчасти из робости, которую я чувствовал при мысли, что предстану перед таким великим человеком, отчасти из смутного чувства, что если Шопенгауэр, прочитав мое произведение, сам не поймет, с кем имеет дело, то подробнейшее письмо не поможет ничем. Тем самым я отказывался от тщеславного желания получить в ответ ценное письмо от Шопенгауэра. Но впоследствии я узнал от Карла Риттера, а также и доктора Вилле, которые посетили Шопенгауэра во Франкфурте, что он очень благоприятно отзывался о моем произведении, признавая его значительность.
← к оглавлению | продолжение →