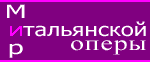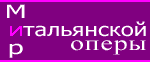Рихард Вагнер. Моя жизнь
1847—1850
6
С этим вопросом я обратился к немногим близким друзьям и почерпнул здесь кое-что поучительное. К великому утешению, среди них оказался Герман Франк, недавно поселившийся в Берлине. Редкие часы провел я в течение двух печальных месяцев в его обществе. Обыкновенно мы беседовали о предметах, никакого отношения к театру не имеющих, и мне почти стыдно было надоедать ему своими жалобами, тем более что речь шла о хлопотах по поводу произведения, с которым я связывал один лишь практический театральный интерес. Он же, со своей стороны, винил меня за то, что я выбрал «Риенци», с которым обращался к заурядной театральной публике, а не «Тангейзера», чтобы создать в Берлине круг людей, сочувствующих моим высшим целям. Он утверждал, что характером своих новых работ я мог бы оживить интерес к театру среди таких слоев публики, которые совсем отвернулись от него и потеряли веру в его благородные стремления.
Речи Вердера звучали безнадежно, когда он говорил о положении искусства в Берлине. Относительно публики он предупреждал, что в театре, на постановке новой, незнакомой веши, во всех рядах, от первого до последнего, сидят люди с одним определенным настроением: найти только скверное, только то, к чему можно придраться. Не уговаривая меня отказаться от моих планов, он тем не менее считал своим долгом предупредить меня, что ждать чего-нибудь от высших сфер в Берлине легкомысленно. Когда, зная его высокое отношение к королю, я спросил, как, по его мнению, он посмотрит на мои стремления облагородить оперу, Вердер, выслушав мою длинную речь, ответил: «Король скажет: поговорите со Ставинским!» Это был не кто иной, как оперный режиссер, толстый, ленивый, погрязший в самой пошлой рутине.
И все, что я узнавал, носило такой же обескураживающий характер. Я посетил Бернгарда Маркса, который живо интересовался мной с тех пор, как познакомился с «Летучим голландцем». Принял он меня с чрезвычайною предупредительностью. Этот человек, который, по его прежним творениям и музыкальным критикам, рисовался мне энергичным, пламенным борцом, теперь опустился, что особенно бросалось в глаза рядом с его молодой женой, сиявшей лучезарной красотой. Из разговора с ним я узнал, что и он окончательно отказался от всяких попыток добиться чего бы то ни было у здешних могущественных сфер в интересовавшей нас обоих области. По личному многолетнему опыту он убедился в невероятной пустоте признанных там авторитетов. Он рассказал мне действительно странную историю: однажды он обратился к королю с просьбой оказать поддержку в основании музыкальной школы. Король на особой аудиенции выслушал его с величайшим интересом и вошел даже во все малейшие подробности проекта, так что Маркс был вполне уверен в успехе своего ходатайства. С этого момента его стали, однако, отсылать от одного человека к другому, и все его усилия остались бесплодными, пока, наконец, он не попал на аудиенцию к одному генералу. Этот генерал так же, как тогда король, с необычайною теплотою вошел в обсуждение всех деталей проекта. «И вот, — закончил свой поучительный рассказ Маркс, — на этом все и кончилось, больше никаких известий о деле я не получал».
Однажды я узнал, что графиня Росси, знаменитая Генриетта Зонтаг, находится в Берлине, что она помнит меня еше с дрезденских времен и ждет моего визита. Запутанные обстоятельства вернули ее к артистической деятельности, и она живет довольно уединенно. У этой женщины нашлось на что пожаловаться. Она сетовала на полную невозможность добиться чего-нибудь в здешних власть имущих сферах, если речь идет об искусстве. По ее мнению, король находит особенное удовольствие в том, чтоб театр управлялся дурно. Никогда он не оспаривает никаких делаемых в этом смысле указаний, но никогда не утверждает предложений, клонящихся к улучшению театрального дела. Ей хотелось познакомиться с чем-нибудь из моих новых работ. Я передал ей стихи «Лоэнгрина» для прочтения. В следующий утренний визит она сообщила мне, что намерена пригласить меня на музыкальный вечер, устраиваемый для великого гер- иога Мекленбург-Стрелицкого. Затем она вернула мне рукопись, заявив, что стихи ей очень понравились, что при чтении ей казалось, будто перед нею наяву танцуют маленькие эльфы и феи. Все поведение этой милой воспитанной женщины, ее теплый, дружеский тон внушили мне искреннее сердечное к ней отношение. Но тут она внезапно окатила меня холодной водой. Я сейчас же удалился и больше с графиней Росси не встречался. О приглашении на вечер никаких напоминаний от нее я не получил.
Пожелал со мной познакомиться и господин Коссак. В сколько-нибудь тесное общение с ним я не вступал, но в обшем он произвел на меня настолько приятное впечатление, что я и ему дал прочесть стихи «Лоэнгрина». Однажды я застал его в комнате, только что вымытой горячей водой, полной тяжелых испарений, от которых у него заболела голова, да и мне было нелегко. Он измерил меня странным, томным взглядом, когда возвращал рукопись, и искренним тоном заявил, что нашел стихи «очень милыми». Несколько интереснее оказались мои беседы с Г. Труном. За хорошим стаканом вина, которым я угостил его у Люттера и Вегенера, куда я иногда заходил ради воспоминаний о Гоффмане, он слушал со все возрастающим интересом мои речи о возможном возрождении и развитии оперного жанра. Он поделился со мною многими остроумными и тонкими наблюдениями. В особенности его живой, подвижный характер производил на меня приятное впечатление. Как рецензент он примкнул после постановки «Риении» к тем, кто меня высмеивал и унижал. Лишь один старый бедный друг мой Гайярд ратовал за меня, честно, но бессильно. Его маленькая музыкальная торговля шла плохо, газета прекратила существование: быть мне полезным он мог только в мелочах. К сожалению, я узнал, что он является автором многих чрезвычайно подозрительных драматических сочинений, одобрения которым он у меня искал, и что, кроме того, он болен чахоткой и близок к смерти. Таким образом, наши редкие свидания при всей его верности и преданности оставляли во мне крайне грустное, угнетающее впечатление.
← к оглавлению | продолжение →